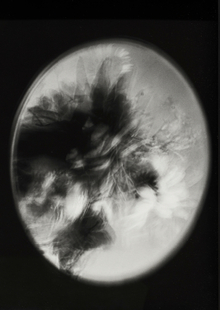Семиотическая онто-экология
Демон Декарта — фигура радикального скепсиса, но нам важен не его дурной характер, а сама возможность систематической подмены, независимо от того, знаем мы о ней или нет.
Давайте его поймаем и четвертуем по Харману.
Демон как RO — не персонаж и не аллегория, а онтологический индивид, действующий «вне сцены» и потому изъятый. Его реальные качества — ненаблюдаемость, каузальная хитрость (вмешательство не в вещи, а в медиаторы между вещами и опытом), метастабильность: он может молчать годами, чтобы однажды включиться в узловой точке сети. Мы используем фигуру «демона» как модель реального объекта — это не психография персонажа, а онтологический узел, чья изъятость делает возможной перестройку профилей явления.
Из этого демонического корня вырастают чувственные объекты — оформленные феномены: декартовский злой гений (как мысленный эксперимент для проверки радикального сомнения), Архитектор из «Матрицы» — фигура, которая встраивает фальшь прямо в структуру знака. Все они — SO с характерными SQ: вызываемая ими эпистемологическая тревога, наш эффект недоверия к феноменальному миру, пластичность реальности, которая предъявляется нам как данность. Демон, строго говоря, не уничтожает объект — он меняет профиль явления: SO остаётся операционально целым в опыте, но его состав и границы уже перенастроены; мы работаем с целым, которое не то. Чувственная реальность становится симулякром, и мы начинаем оперировать ложными SO, принимая их за настоящие. Именно так ведёт себя Архитектор: он — не есть вся Матрица, а интерфейс между реальным устройством симуляции и нашим опытом — Нео или нашим.

У Барта мы встречаем тот же механизм, только построенный как двухступенчатая семиотика. На первичном уровне знак порождает явление; на вторичном миф превращает целое явление в новое означающее для нового означаемого, которое связано с культурной, идеологической, политической или эмоциональной нагрузкой. В терминах четверицы мы можем интерпретативно читать мифический знак как SO, с которым мы работаем. Его возможный RO остаётся за кадром бартианской схемы (Барт не занимается онтологией), но для ООO он предполагается как изъятый источник структурной устойчивости явления. Мифологизация вмешивается в переход от реального к чувственному, подменяя профиль и превращая явление во вторичный культурный знак. Классический пример с обложкой, где чёрнокожий французский солдат становится эмблемой «имперской гармонии», показывает, как SO скрывает свой RO, удерживая впаянные в феномен устойчивые качества профиля — военную иерархию, ритуал, форму. Важно не перепутать: «имперская гармония как таковая», понятая как реальное согласие метрополии и колоний, — мёртвый объект нашего мира; онтологически он не действует и не порождает явления. А вот «миф об имперской гармонии» — реальный объект: он изъят, каузален, порождает множество SO (фото, тексты, церемонии) и не исчезает после разоблачения. Мы имеем дело с пустой позицией, которой мог бы стать один RO, и с другим RO, который эту пустоту эксплуатирует и живёт на её месте.
Пожалуй, можно ввести классификацию, которой в явном виде нет у Хармана.
Мёртвые объекты — это даже не объекты, а позиции без реального носителя и без каузальной силы: чувственные остатки, метки, «сломанные ссылки» интерфейса мира: тут «нечему просыпаться», так как отсутствует внутреннее ядро для действия. Впрочем, иногда то, что кажется «мёртвой нишей», внезапно оказывается хранилищем россыпей мелких RO.
Дремлющие — реальные, но неактуальные: эндоструктура сохранена, режимы притяжения (условия) — нет. В словаре Брайанта это «виртуальное собственное бытие», чьи локальные манифестации пока не включены, потому что не сложилась конфигурация триггеров. У Симондона — метастабильное поле до фазового перехода. Здесь спать и просыпаться есть кому: объект способен удивить, если слегка изменить температуру среды.
Итак, мёртвым мы называем то, что некогдо было единицей, но распалось на суб-объекты там, где некогда была единица; дремлет же — реальное, чья манифестация заблокирована текущим режимом.
«Имперская гармония как таковая» в современном мире — не обязательно «мёртвый объект». Если это лишь риторический фантом, обобщение без носителей, — да, пустая позиция. Но если она воплощена в устойчивых агрегатах — в учебниках истории, в церемониалах, в архитектурных осях, в правовых формулах, в музыкальных ладах, в дипломатических протоколах, — то перед нами не один объект, а рой: множество реальных объектов, которые всё ещё дают эффекты. Тогда «имперская гармония» — зонтичный SO без реального ядра, собирающий реальных акторов в знакомый рисунок и заимствующий у них носители. Он может казаться «мёртвым» на одном уровне (так как идея дискредитирована), оставаться «дремлющим» на другом (его ритмы легко реактивируются при незначительном изменении параметров — экономических, медийных, эстетических) — но порождать паразитарные эффекты. Назовём такие объекты призрачными.
Объекты-призраки — устойчивый подкласс объектов симулятивных, то есть таких SO, которые изображают изъятость, как будто за ними стоит реальный объект (RO). В терминах Хармана это «маска изъятия»: единица, собранная в намерении другого актора, ведёт себя как будто имеет собственное изъятое ядро, но живёт только до тех пор, пока её кто-то удерживает. Если снять намерение — она распадётся. Никакого RQ у неё не накопится, только игра SQ (впрочем, SO может не коррелировать ни с каким RO — но это всё равно объект в онтологическом смысле). Устойчивость призраков — не в изъятости, а в протоколе пересборки: рецепт тиражирования заменяет ядро.
Наконец, паразитарные объекты — реальны (обладают ядром), но действуют они через чужие профили: их собственная изъятость привязана к чужим носителям. В Guerilla Metaphysics Харман разбирает зависимость феноменов на примере тени дерева — это SO, целиком зависящий от RO дерева и света. Но наш объект-паразит — сильнее: это реальный объект, который действует, перехватывая медиаторы другого. Подходящие примеры — бренд, юридическая форма, вирусный формат: ядро есть, но причинность гетерономна и работает через чужие профили. Тут важно, что RQ паразита сцеплены с SQ носителя, поэтому смена носителя часто меняет «тембр» проявлений без изменения ядра.
У Хармана эти типы не сведены в одну таблицу, но необходимые элементы у него разбросаны по разным контекстам: чувственные маски, викарная (замещающая) причинность, перехват медиаторов — всё это позволяет собрать нашу типологию как рабочий язык и практическую монтажную схему.
Отсюда нехитрая мысль: объекты образуют экосистемы. Среди объектов есть хосты, предоставляющие свои чувственные профили (SQ/SO) для транзита чужих причинностей; паразиты — реальные объекты, перехватывающие чужие каналы; хищники, размыкающие устойчивости, доводя эндоструктуру до краха через цепочки замещающей причинности и обнуляя способы манифестации; продуценты, сплавляющие и институционализирующие конфигурации (сшивая RO с его новыми RQ и стабильным набором SO); редуценты, переводящие объекты в архивные остатки и шум (или, на языке четверицы, в устойчивые чувственные остатки SO/SQ), обрывая их каузальные траектории. Это не гармония равновесий, а поле стратегий: одна и та же единица может вести себя как хост, хищник и редуцент в разных контекстах. Так пишут о средах Мортон (тёмная экология и гиперобъекты как неантропоцентрическая сцена), о политико-экологических ансамблях — Брайант, о медиа-экологиях — Фуллер; Серр даёт фигуру паразита как универсального оператора обмена и шума; Делёз и Гваттари уже давно научили нас слышать «машины питания». Мы делаем следующий шаг: накладываем экосистемные роли прямо на хармановскую четверицу и вводим типологию несоизмеримых, но сравнимых состояний — мёртвые, дремлющие, симулятивные, паразитарные. Объекты демонстрируют своего рода «тёмный витализм» (не буквально «живость», а упорство изъятости): у того, что кажется мёртвым, может быть ядро, а под сияющим профилем — зиять пустота. Жизнь — не в активности «для нас», а в изъятости, которая настойчиво порождает явления, не спрашивая, удобны ли они нашему опыту. Экологичность здесь не метафора: роли фиксируются на уровнях четверицы — хосты управляют SQ/SO; паразиты привязывают реальное ядро к чужим SO/SQ, хищники инициируют такие каскады викарной причинности, что меняется даже RQ-эндоструктура объекта (мы видим это как катастрофу SO); редуценты консервируют SO, продуценты стабилизируют новые четвероякие связки RO/RQ/SO/SQ.
Связка с Бартом помогает не романтизировать знак. Мифы и идеологии — реальные объекты, даже когда они ложны эмпирически: ложность не отменяет онтологического существования, если есть изъятость и порождение явлений. Поэтому «симулякр» у нас — не бранное слово, а, говоря делёзианским языком, позитивная онтологическая машина различия (то, что подрывает органон представления): симулятивные объекты — это SO без RO, удерживаемые протоколом пересборки; призрачные — устойчивый подкласс симулятивных; паразиты — RO, живущие через чужие SO/SQ. Отсюда — онто-экологический взгляд на популяции мифов: виды, инвазии, вымирания, кризисы: виды живут на уровне RO/RQ, а инвазии, вымирания и кризисы видим как перестройки SO/SQ и их медиаторов. Вид — это кластер гомологических RO с устойчивым ядром RQ и повторяемыми способами репликации профилей (SO/SQ) через медиаторы. Отбор — дифференциальная выживаемость конфигураций явления в среде платформ, институтов и внимания. Инвазия распознаётся по высокой транспортабельности SO/SQ-профиля и мимикрии под местные SO/SQ; вымирание — по коллапсу носителей и «суперхищникам», перепрошивающим RQ до распада узла (из каскада замещающих причинностей возникает иллюзия «переписывания ядра») и обнуляющим SO; кризис — по монокультурам медиаторов, взрывам паразитов, беднению продуцентов и коллапсу редуцентов (цепей разложения). На границах медиа — экотоны: там идёт видообразование, и мы наблюдаем появление новых RQ и гибридных SO; в рефугиумах — субкультурах и архивах — законсервированные дремлющие объекты пережидают неблагоприятные сезоны, накапливая дремлющие потенциалы.
Полезно уточнить, что считать фактом в такой сети. Факт — не «истинное высказывание», а морфологическая точка невозврата: событие, изменившее форму хотя бы одного реального объекта так, что откат потребует не косметики профилей, а перестройки аппаратов, то есть сдвиг на уровне RO/RQ, который перестраивает устойчивые SO/SQ. Псевдо-факт — всплеск SO/SQ без сдвига RQ, который без существенных затрат откатывается при смене установки. Псевдо-факт может оставлять архивный след (SO), но не меняет RQ и не требует перестройки аппаратов. Необратимость здесь — не романтическая «фатальность», а стоимость отката: чем больше аппаратов надо переписать, чтобы было «как раньше», тем фактичнее событие. На телах, в институтах, в памяти — в двух из трёх регистров должно «гореть», иначе это была лишь вспышка профиля.
Оставаясь на территории ООO (реальные объекты изъяты, на свидания приходят лишь их феноменальные явления), мы призовём сюда Карен Барад — чтобы придать медиатору анатомию. У неё феномены суть конфигурации интра-действующих агентностей; аппараты устанавливают границы (агентный разрез), делающие феномен определённым: из спутанной пряжи отношений вывязываются объект, субъект, инструмент, данные. Так викарная причинность Хармана (непрямые взаимодействия через чувственные профили) концептуализируется как барадианская интра-акция: механизмы замещения — это конкретные аппараты, которым участники не предшествуют, но со-возникают в них. То, что мы раньше называли «медиатором», получает корпус, протокол и норму; каждый феномен — конфигурация такого аппарата. Если при смене аппаратов какие-то черты явления упорно сохраняются, мы считаем их индикаторами реальных качеств (RQ), то есть устойчивостей изъятого узла, не сводимых к частному способу измерения.
Отбор в этой сети тогда происходит по простому критерию: жизнеспособно то, что переносится из одной установки в другую, удерживая свои инварианты и оставляя трудносмываемый след: чтобы «сделать вид, что ничего не было», нужно перепрошить слишком много тел, кодов и регламентов. Псевдо-факт, наоборот, распадается при перестановке или пересборке аппарата: изменения в профиле откатываются без значительных затрат, а след остаётся лишь в архиве.
В UX/UI-дизайне это приводит к простой этике: интерфейс — не окно, а аппарат. Он не показывает факты, а производит феномены. Поэтому хорошая практика делает видимыми условия агентного разреза (как мы режем мир) и предоставляет альтернативный ракурс, фиксируя следы не только в «ленте», но в телах, институтах и коде. Паразитические траектории надо вытаскивать на свет и гасить архитектурно: трением, ограничениями, контекстными предупреждениями, явными отказами в доступе — не разрушая экотонов, где происходит специация профилей. Стерильные платформы развиваются гладко и воспроизводимо, но вот происходит небольшой сдвиг в алгоритме, и мы наблюдаем коллапс совместимостей профилей и затем массовое вымирание видов. Холистические же экосетевые инфраструктуры мутируют: множественные интерфейсы, открытые протоколы, ритуалы совместимости — там RO выдерживают смену SO/SQ, а RQ проходят стресс-тесты без разрушительных последствий для системы.
Последнее уточнение касается формы. Современная физика никогда не сталкивается с ὕλη (сырой материей), а только с экспериментальными эффектами (масса, заряд, спин) и моделями взаимодействий. Следовательно, «материальность» — это не онтологическая константа, а способ доступа, основанный на измерительном приборе, как сказала бы Барад. Если отбросить ὕλη, объект не создается из бесформенного материала, а собирается из подобъектов, которые в целое привносят свои собственные формы и причинно-следственные мощности. Выражаясь языком дизайна, артефакт — объединение автономных участников, а не пассивная глыба, ожидающая придания формы. Реальность и все её причинно-следственные связи — именно в форме, а не в материальном субстрате (под «формой» здесь понимается не геометрия оболочки, а конфигурация мощностей (RQ) и допустимых манифестаций (SO/SQ)). Например, «100 реальных талеров» и «100 воображаемых талеров» (пример Канта) — это не один и тот же знак с разной адресацией, а два разных объекта с различными каузальными траекториями. Тождество интерфейса денег не гарантирует тождества денег как RO; апелляция к «сырой природе» часто маскирует тихое переподписывание форм между аппаратами. Наш рабочий критерий от этого только выигрывает: если «тот же» объект сохраняется лишь внутри одной установки, это профиль, а не вещь; если одна и та же реальная форма переживает перенос в соседний аппарат, перед нами RO с устойчивыми RQ-инвариантами.
Итак, у нас складывается семиотическая онто-экология: объекты и знаки образуют единую экосеть, где роли и состояния важнее деклараций сущности, где ложное может быть реальным, если оно каузально, где фактичность измеряется ценой отката, а посредники — конкретные аппараты с дисциплинами, носителями и жестами. Мы оставляем за объектами их тёмную изъятость, но перестаём изображать сеть как плоский шёпот профилей: это густая, конфликтная биосфера форм, где, например, демон Декарта — привычный резидент, а не внезапный пришелец.